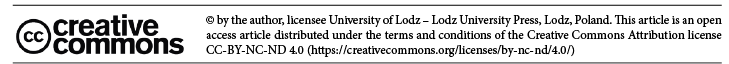Wydział Humanistyczny
41-206 Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5
 http://orcid.org/0000-0001-6575-5736
http://orcid.org/0000-0001-6575-5736Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Humanistyczny
41-206 Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5
 http://orcid.org/0000-0001-6575-5736
http://orcid.org/0000-0001-6575-5736
Резюме: Опираясь на тексты малых жанров фольклора, такие, как скороговорки, пословицы, поговорки, а также устойчивые, в том числе сравнительные, обороты и сочетания русского языка с компонентом трава, автор показывает не только явную, но и скрытую в них семантику, представляющую собой при объединении определенный круг, на основе которого возможны впоследствии всевозможного рода вербально-речевые проекции. К таковым относятся, в частности, тексты песенного дискурса 70-х годов ХХ века, в которых себя проявляют через непрямое посредство травы, эмотивные состояния в их отношении к проживаемой действительности. Трава становится косвенным, но только на первый взгляд, средством выражения не до конца осознаваемого в своих ощущениях чувства, имеющего не индивидуальный, а национально-культурный характер, обусловленный связями как исторического, так и этимологического происхождения. Общеславянский как семантический, так и этимологический материал позволяет в этой связи представить не только исходный фон и тон, но и себя отражающего далее в текстах как народно-традиционного, так и лирического проявления. На основе проделанного анализа автор приходит к выводу о возможности диахронно-синхронического подхода к исследованию определенного круга семантики, реализующего себя в словах и их корнях, которые можно рассматривать как насыщенные многообразными и не всегда уловимыми формами эмотивно заряженных переходных и переходящих одно в другое соотношений.
Ключевые слова: семантика слова и корня, этимология, песенный дискурс, малые жанры фольклора, скороговорки
Summary: The article addresses small genre texts such as sayings, tongue-twisters, proverbs and permanent expressions in the Russian language, which contain the “grass” element. Some of these items are of comparative character, and they have some open/hidden semantics. This semantics in general is a certain range which presents all kinds of verbal-linguistic projections. The texts of songster discourse of the 1970s are indirectly a part of these projections and by means of “grass” manifest emotive states and their relationship with the experienced reality. “Grass” is an ostensibly indirect means of the feeling that is not fully realised. This feeling is not of individual but of national and cultural character. This character is closely bound with the historical and etymological factors. The Slavonic wide semantic material makes it possible to characterise the primary background as well as the shades of meaning which are shown in the traditional folk and poetic texts. On the basis of the analysis, the author comes to a conclusion that it is possible to approach the diachronic and synchronic study of a certain range of semantics in simultaneity. This semantics realises itself in words and their roots which can be admitted and can be considered emotively charged and saturated with diverse and not always perceptible forms of a transitional, mutual relation.
Keywords: root and word semantics, etymology, songster discourse, small folk genre, tongue-twisters
Предлагаемая постановка вопроса может несколько озадачить. Не то чтобы без повода, но и не без причины. И дело тут не в возможных, хотя и не случайных, ассоциациях и связях, отталкиваясь от которых, если без особых на то оснований, можно зайти далеко, хотя бы и не потеряться. Не в ассоциациях и связях, а в подходе. Имеются сознание, языковое сознание, полусознание, бессознание, коллективное и индивидуальное бессознательное, которые, соединяясь, направляют национально предопределенное и в языке отражаемое чутье. Или, может быть, чувство, если под чувством в разбираемом отношении понимать не всегда объяснимое существование языка в сознании его носителей. Не столько сознании, сколько в органике и настроенности всего человека, а точнее в нем не его языка, не его, поскольку совместно-общего, однако с учетом того, что и как он чувствует, что и как переживает и ощущает, в чем существует и чем живет, уходя своими корнями в глубины не одного только индивидуального опыта. В языке этом, как организме[1] и чувстве, в его проявляемых коммуникативно и узуально словесных и речевых формальных проекциях, и выражает, реализует себя то, что, не имея другого определения, обозначено было словом чутье. Об этом себя выражающем в языковых формах чутье, но не только о нем и не вполне о нем, и пойдет речь в дальнейшем. Будет затронут пласт того скрывающегося и ускользающего от сознания и осознания «языка», который, действуя внутренне как механизм, может точнее, как орган, производит из себя, выводя на поверхность то, что с трудом, неоднозначно и не вполне последовательно, способно быть определено, не особенно поддаваясь ясному и очевидному представлению.
Начнем с рассмотрения не совсем простого примера, с тем чтобы от него перейти к последующему. Известная издавна в национально-культурном русскоязычном ареале скороговорка (так ее, впрочем не без оснований, принято определять), если вникать, отталкиваясь не от одного только звучания ее составляющих слов, и в этом противоречия нет, может и озадачить, и вместе с тем не озадачить, поскольку зависит все от того, как на данный вопрос посмотреть. Можно, конечно, уйти от вникания и поиска, исходя из того, что ежели скороговорка, то и игра, звучание слов, но только ли игра c одним лишь звучанием? Скороговорка эта, о которой речь, по чутью ли и в силу незнания, а потому и в известном смысле не так чтобы случайно воспринимается как загадка, тому подтверждение можно найти в высказываниях носителей русского языка на разных порталах. Не углубляясь в этот вопрос и не давая оценки подобному представлению, отметим его для дальнейшего. Но коль есть загадка, то и возможен, идя в рассуждениях далее, предполагаемый в виде отгадки ответ, каковой не находится, и от этого положение с тем, что словами описано, выглядит еще более интригующим и, играя опять же словами, загадочным.
Скороговорку эту, о которой речь, принято определять в русскоязычном культурном контексте как общеизвестную[2], имеет исходный, более полный и укороченный варианты. Полный – На дворетрава́, на траве́ дрова́, не руби́ дрова́ на траве́ двора́. Укороченный – без второй, от не руби, части. Составитель Словаря-тезауруса русских пословиц, поговорок и метких выражений, традиционно относя данную единицу в разряд скороговорок, отмечает ее как пустую, видя смысл подобного рода выражений лишь в том, чтобы дети учились на них говорить, забавляясь (Зимин, 2012, 470). Не будем подобного стертого мнения опровергать, обратив не попутно внимание лишь на то, что, видимо и скорее всего, далеко не в одном этом можно усматривать скороговорочный смысл.
Говоря о забаве, но не исключительно для детей, а возможно и не для детей, стоит отметить имеющиеся у разбираемой единицы развитиe и продолжениe. Существует также известный, такой расширенный вариант: На дворе́ трава́, на траве́ дрова́: раз дрова́, два дрова́, три дрова́. И сходный с ним, но без травы, к которому для представления о дровах можно будет вернуться: На дворе́ дрова́, за дворо́м дрова́, под дворо́м дрова́, над дворо́м дрова́, дрова́ вдоль двора́, дрова́ вширь двора́. У этого первого есть такое развитие: На дворе́ трава́, на траве́ дрова́ – раз дрова́, два дрова, три дрова́: дрова́ вдоль двора́, дрова́ вширь двора́, не вмести́т двор дров, на́до дрова́ вы́дворить обра́тно со двора́. И более полный, по-видимому, вариант у второго: На дворе́ трава́, на траве́ дрова́ – раз дрова́, два дрова́, три дрова́: на дворе́ дрова́, за дворо́м дрова́, под дворо́м дрова́, над дворо́м дрова́, дрова́ вдоль двора́, дрова́ вширь двора́, не вмеща́ет двор дров! Наверно, вы́дворим дрова́ c ва́шего двора́ обра́тно на дровяно́й двор.
И эта была бы первая группа для предлагаемого в отношении травы рассуждения. Вторую составит группа отмеченно современных развитий – исходного: На дворе́ дрова́, на дрова́х братва́, y братвы́ трава́. И его поясняющего: На дворе́ трава́, на траве́ дрова́, на дворе́ братва́, у братвы́ трава, как курну́т травы́, – вся братва́ в дрова́. С еще одним вариантом: На дворе́ трава́, на траве́ дрова́, на дрова́х братва́, y братвы́ трава́. Как курнeт братва́, вся братва́ – в дрова́. Хороша трава.
Интересовать нас будут, в избранном для рассуждений ключе, два представляемых не случайными и взаимосвязанными (в отношении «несознания») обстоятельства, которые могут позволить отметить нечто не безразличное для травы. Во-первых, для первой группы то, что пойдет к дровам (при дворе и с двором). А во-вторых, к братве с дровами – для группы второй. И если конкретно, то, следуя из того, что по текстам для первой группы можно видеть не только звучание, пусть и с забавой, но и что-то еще в том, что выражено: а) раз дрова, два дрова, три дрова; б) не руби дрова на траве двора; в) дрова вдоль двора, дрова вширь двора; г) не вместит двор дров; д) надо дрова выдворить обратно со двора? А также – е) на дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не вмещает двор дров и ж) выдворим дрова с вашего двора на дровяной двор? И для группы второй, исходя не только опять же звучания, появление братвы при дровах, с далее определенным и следующим из контекста соположением вся братва – в дрова?
Обратимся ко второму, как к более, на первый взгляд, очевидному. Устойчивое для современного разговорного языка выражение кто-то – в дрова, предполагающее обычно, но не обязательно, субъектно-объектную не единичность, в значении ‘находящийся в неподвижно-тупом, бессознательном, мало что соображающем положении, вследствие употребления перед этим увеселительных средств, алкогольного и наркотического происхождения’, соотносимо также с не редким для современной речи оборотом Не дрова везешь, при обращении к шоферу, автобуса, грузовика, не слишком старательно везущему своих пассажиров, отчего их во время поездки дергает, трясет и толкает. Выражение это семантически находит свое подтверждение в единицах, приводимых в Большом словаре народных сравнений (177): как (что) дров в поле́ннице (кого, чего) новг. ‘много’; накласть что дров брян. ‘о людях в телеге, машине’; лежать как дрова ‘о людях, неподвижно и беспорядочно лежащих’; как дро́вы пск. ‘о слабых, больных, старых и малоподвижных людях, а также о твердой и жесткой пище’; Друг друга губят, что дрова рубят.
Из чего получается весьма устойчивое представление о дровах как о людях в аспекте телесной, скажем так, их неподвижности, неспособности передвигаться и производить самостоятельные действия и движения, зависящих в определенном смысле и в каких-то случаях от действий и воли другого (других). Находит это свое отражение, в частности, в молодежном сленге. В одном из значений, применительно к человеку, дрова означают ‘пьяного, не способного стоять на ногах’, что близко к разбираемому в скороговорке случаю, а также в еще одном значении ‘конечности’ и ‘неквалифицированного игрока самого низкого уровня’[3]. Из чего получалось бы то, что, собственно, уже было выведено для признака неспособности к самостоятельному передвижению, жесткости, твердости, также и в переносном смысле, в близкой к мертвому положению окостенелости. К этому можно добавить разоружающую примитивность и простоту, находящие свое отражение в сленге, хотя и не в применении к человеку: ‘ерунда, безделица, чушь’, Это не проблемы, а дрова (cм.: Елистратов, 2000, 122)[4].
Обращаясь к рассматриваемой скороговорке в современных ее вариантах, можно видеть не только рифмующееся, но и внутренне обусловленное соотношение трава – братва – дрова. Если вторая пара братва – дрова, предполагает своей мотивацией то, на что было обращено внимание в предыдущем абзаце, однако, что необходимо добавить в конечном своем итоге (братва – в дрова), то первая пара трава – братва требует пояснений. Так же, впрочем, как и дрова – братва не в итоге, а при исходной части, где на траве (дрова).
Прежде всего обратимся в своем пояснении к тому, что такое братва. Не вдаваясь в детали и уточнения, приведем толкования этого слова по двум словарям, отражающим современное состояние. Большой толковый словарь русского языка (Кузнецов, 2000, 95) дает такое определение: «собир. Фам. Бра́тия (2 зн.). Матросская, солдатская б. Его вся б. знает». И, соответственно, братия
2. Шутл. Люди, связанные общим делом, условиями существования и т.п.; люди одного круга, одной компании и т.п. Учeная, актeрская, пишущая б. Музыку любит вся наша б.
Большой словарь русской разговорной речи В.В. Химика, в свою очередь, содержит следующее (57):
*БРАТВА́[5], ы́, ж, собир. 1. Разг.-сниж. Друзья-сообщники, приятели, товарищи (обычно связанные какими-л. отношениями). Привет, б., закурить не найдется? (…) 2. Жарг. крим. Уголовники, члены преступных группировок».
Как подсказывает контекст, братву с травой при дровах следует понимать в 1-м значении по словарю В.В. Химика, и это было бы разговорно-сниженное по своему характеру слово. А если иметь в виду значение литературное по первому словарю, то в отношении ‘люди одной компании’, т.е. в сужении (помета Шутл. была бы тогда слишком мягкой) с тем немаловажным фактическим уточнением, что речь не о людях вообще, но о представителях мужского пола и далеко не старого возраста, т.е. тех, кого называют парни.
В этом смысле и отношении братву, помимо ее связи с дровами (о чем пойдет еще речь) возможным становится также соотнести и с травой, но не как тем, что имеется у нее, позволяя курнуть, а как тем, что семантически с ней самой согласуется. Припомнить следует в объяснение данной связи такие известные выражения: растет (растут) как трава ‘без ухода, призора, присмотра, внимания со стороны старших, родителей, о детях’, с вариантами по Словарю народных сравнений (687) расти как сорная трава, как трава в степи (в поле), расти как бурьян [глухой], крапива [у забора], сорняк, сорная трава; сюда же не из словаря Дурная трава в рост идет ‘о высоком недоросле, парне, подростке и при этом обычно не слишком быстром умом’. А также из Даля: Худая трава из поля вон ‘о человеке, от которого необходимо избавиться’; Выживает он меня как худую траву и́з поля (из поско́тины[6]), что, правда, предполагает мужское действующее лицо, но вместе с этим и более близкое к определяемому – Как худая трава, только ноги оплела! ‘плохой муж’. И из того же Словаря народных сравнений: как трава ‘о бестолковом’; зeлен как трава, зелeный как [молодая] трава; лезть в глаза кому словно пeсья трава ‘ежа сборная (Dactylis glomerata), ежа обыкновенная, южа, палочник, песья трава’; надоесть кому как чахоточная (чихотная) трава ‘травяной отвар против чахотки’; трава травой ‘о пище и о мягком, слабохарактерном человеке’; как трава в лесу ‘о толпе людей в их неразличимости и однообразии’ и сюда же также ‘о множестве’ – кого, чего, где, что травы на поле.
Трава тем самым во внутренне-мотивирующем соположении соотносится применительно к человеку с общеродовым о нем представлением. Человек любой и как таковой, а так же, далее и при сужении, – а) соотносится с подрастающим и молодым, б) подрастающим молодым мужского пола, в) мужского пола не исключительно молодым, но таким, который, и этот признак может быть также и общеродовым, г) путается, мешает, лезет куда не надо, надоедает, ни на что не пригоден, а в соединении, совокупности и толпе д) вызывает чувство нудного однообразия и неразличения в массе своих составляющих.
Предполагая признаком мужское, при не общеродовом в отношении травы предпочтение, не безразличным видится припомнить такую известную, хотя и не современную, имеющуюся у Даля пословицу: Девушка не травка, не вырастет без славки. Понять ее, внутренне, а потому скорее почувствовать, можно в двух отношениях. Для травы или травки, по поводу которой славка, которую следует понимать как дурную молву, языки, не слишком благоприятные оценки и мнения по поводу дозамужнего поведения, представляя, что для травы подобное положение недействительно, поскольку трава или травка, она и есть трава, что с нее взять и что с нее требовать? Мнения о траве в этом смысле не может быть. И применительно к парню, еще неженатому, девушке в параллель, для которого, как для травы или травки, славка, как получается будет также не приложима и не восприимчива. Не существенно оно для него, а если существенно, то совсем в другом применении.
Из чего получается, что если женское, пусть и незрелое, незамужнее, молодое, все-таки не трава, травой становится мужское, молодое и неженатое (зеленое, буйное), незамужнему женскому в параллель. И тогда, развивая соотношение к братве, появление ее при траве, которая на дворе и на которой дрова, а на ней братва, становится не только внешне, по форме, но и в смысловом отношении не случайным, с уточнением к неединичности, собирательной совокупности состава подобных себе.
Обратимся теперь к дровам, что позволит увидеть их отношение не только к людям, но и ко двору, имея в виду те характеристики в приведенных ранее пунктах, которые были выделены для первой, традиционно-народной, скажем так, а не подчеркнуто современной группы (с братвой). Какие это могут быть люди, если дрова, и что может связываться в «несознании», о котором речь, у них со двором-травой? Обратимся для этого к все тем же примерам. Не для решения вопроса, что было бы утверждением слишком сильным с учетом затрагиваемого положения вещей, а для поиска внутренних эмотивных и мотивирующих модуляций, находящих затем свое отражение в словах. Нельзя при этом сказать, что при выведении чего-то интересующего и важного одного, невозможным было бы что-то другое. Однако не в этом дело при выбранном нами подходе. Если имеется это что-то одно, то оно может всплыть затем на поверхность, определяя и представляя собой течение все той же «несознательной» мысли, ее движение, ток, наравне (возможно, а возможно, и не наравне) с другими. И если это течение или ток обнаруживает себя в словесных и речевых проявлениях, есть основания полагать, что за этим нечто стоит и то, что стоит, не случайно.
Задумаемся в том же заданном изначально ключе над общеизвестным кто в лес, кто по дрова, постаравшись увидеть в нем нечто для скрытого слуха. С одной стороны, то, что связывается с узуальным и переносным значением, т.е. вразброд, вразнобой, нестройно, нескладно, не в лад, каждый сам по себе, вне общего строя, несогласованно, обычно о пении и об игре на музыкальных инструментах, хотя и не только. С другой – можно на это взглянуть исходя из устойчивого оборота, на базе которого данное выражение появилось, ехать в лес по дрова, понимая рассматриваемое буквально. И тогда получается для кто в лес, кто по дрова, что один (одни) направляется в лес, а другой (другие) по дрова в то же самое время, и при этом не в лес, что противоречило бы общепонятному положению, поскольку дрова, как известно, в лесу. О базаре с дровами, где, скажем, можно их было бы также купить, с учетом даваемого сопоставления говорить не приходится.
Парадоксально-абсурдная ситуация при общности смысла производимого действия предполагает непонимание того, что представляется очевидным. Так это можно было бы объяснять, не углубляясь и не доискиваясь. Не противоречит это народно-традиционному восприятию, способному видеть в известной всем очевидности то, что способно стать характеристикой не понимающего простых вещей человека. Из чего возникает также такое, как в лес дрова возить, т.е. делать нечто бессмысленное и глупое, производить дурную работу, а точнее, излишнюю, не добавляющую ничего к тому, что имеется и чего под достатком. К этому можно добавить, от тех же слов не отходя, такие народные выражения у Даля: В лесу дров не нашел! Лесом шел, а дров не видал. И еще одно, точнее два, но без леса: Без топора по дрова и Муж по дрова, а жена со двора.
Посмотрим на это, однако, с иной стороны, не навязывая народному представлению то, что, возможно, ему не свойственно, но задумавшись над представляющемся не вполне случайным и внутренним проявлением. Внутренним, потому что внешне ненаблюдаемым. Не случайным, поскольку связанным, если не с мифологическими, точнее мифологизирующими, то не осознаваемыми, представлениями, того коллективного бессознательного и того вместе с тем «несознания», о котором речь. «Несознание» это подсказывает, что лес и дрова не только не одно и то же, что вроде бы очевидно, но что, будучи связано, предполагает несовпадающие и разные чего-то общего, если не формы, то ипостаси.
Лес, развивая внутренне ощущаемую мысль, живое и не вполне человеческое, чуждое человеку, обитель умерших, душ и духов[7]. Не будем далее в эту тему входить, в мифологической и лингвистической литературе о лесе написано много[8]. Дрова рубят в лесу, и с этим связаны широко известное [Чем] дальше в лес, [тем] больше дров и Лес рубят, щепки летят. И это второе было известно, и не случайно в его применении к построению социализма в советское время не только в том смысле, что, совершая вроде бы что-то большое и нужное, необходимо видеть какие-то неизбежные, малые по сравнению с рубкой леса потери и следствия, но и в отношении к людям как жертвам производимых ради достижения общего блага репрессий. Не возникло это без внутренних оснований. Приведем лишь один пример. В словаре Славянские древности дается такое свидетельство: «Если снится, что в лесу рубят Д.[рова], значит будет мор на людей и скотину (укр.)». И не вполне к этому, однако в том же ключе: «привоз Д.[ров] – смерть женщины (Новы Сонч)» (Усачева, 1999, 138).
Лес, следовательно, место, где можно добыть, получить, нарубив, дрова, но он не дрова и дровам не равный. И тогда получается, что Лесом шел, а дров не видал. В лесу дров не нашел!, а также Без топора по дрова и Кто в лес, кто по дрова отнюдь не бессмыслица для объяснения человека не понимающего и не знакомого с порядком вещей, но нечто иное, что можно иначе интерпретировать и понимать. Дрова – это то, что мертвое, точнее умерщвляемое, в живущем своею жизнью лесу. В лесу дрова можно получить, произведя в нем соответствующие, опустошительные для него по своему результату, направленные на его деревья, действия. В лесу исходно нет дров, а применительно к людям (исходя из языкового и не только языкового антропоцентризма), если лес с живыми деревьями в нем – обитель живого потустороннего, а также место отправления тех, от кого желают избавиться[9] и «тот свет»[10], то дрова ничто не мешает в том же ключе воспринять как мертвое и умерщвленное, неживые тела. Не случайно (обращаясь к той же советской действительности) дровами определялись в лагерно-административном жаргоне умершие и окоченевшие, вывозимые утром при очищении бараков, наваливаемые на санки, тележки, как дрова.
Отвлекаясь, однако, от представлений бесчеловечного прошлого, бесчеловечного как обесчеловечивающего, и возвращаясь к лесу с дровами, кто в лес, кто по дрова, равно как и все остальное из приведенного, можно было бы и представлять по-иному. В лес дрова возить выглядело бы не как бессмыслица, а как то, что можно видеть реликтом архаического у славян избавления от заживающих уже не свой век стариков[11], от тех, кому вышел срок, кто уже не живой, а мертвый, и кому самое время и путь поэтому в лес. И В лесу дров не нашел! Лесом шел, а дров не видал не случайны, ибо нету там этих самых дров. Вполне логичным было бы и Без топора по дрова, ибо топор для затеянного в отношении так понимаемых дров мероприятия был бы лишним. Остается в этой связи не вполне объяснимой пословица Муж по дрова, а жена со двора, если воспринимать ее не в буквальном смысле и ставить в том же ряду. Однако не будем ее разбирать, что заняло бы немало места с необходимостью обращения к мифологическим связям и смыслам, отметив только, что не простой это муж и не простая при нем жена, если тот отправляется по умерщвляемые им тела, а та покидает их общий двор с какой-то, возможно подобной, целью.
Вернемся к оставленной скороговорке с травой, двором и дровами, задумавшись над озадачивающей повсеместностью этих самых дров, про которые говорится первоначально при троекратном счете, раз дрова́, два дрова́, три дрова́, а затем, в пояснение: на дворе́ дрова́, за дворо́м дрова́, под дворо́м дрова́, над дворо́м дрова, дрова́ вдоль двора́, дрова́ вширь двора́, с подытоживающим не вмеща́ет двор дров! и предлагаемым выходом из подобного положения – Наверно, вы́дворим дрова́ c ва́шего двора́ обра́тно на дровяно́й двор. Не случайно при этом с вашего (двора), обратно и на дровяной двор. Иными словами, на вашем дворе им не место, а есть свое у них, их собственный двор, дровяной.
Прежде чем пойти дальше, хотелось бы сделать в отношении травы, поскольку о ней все же речь (с двором и дровами), представляющееся небезразличным этимологическое отступление, которое также может несколько озадачить, если в него вникать.
П.Я. Черных в своем словаре дает такое определение:
ТРАВА́: ‘небольшое растение с однолетним зеленым стеблем, настолько тонким, что его можно растереть между пальцами’; ‘зеленый покров земли, состоящий из таких растений’ (…) О.-с. *trava (корень *trav- < *trōṷ) : *trěva (корень trěv- < *trěṷ-). И.-е. база *trěu- (: *trou- : *trū-), корень *ter- – ‘тереть’. На слав. почве родственные образования: рус. травить (см.); (в абляуте) ст.-сл. троути, 1 ед. тровѫ – ‘тратить’, трыти, 1 ед. трыѭ – ‘тереть’. В других и.-е. языках образования от и.-е. базы *trеu- и пр. по значению более или менее далеки от о.-с. *trava. Они в семантическом отношении ближе к рус. травить (см.) (Черных, 1999, II, 255).
ТРАВИ́ТЬ: ‘умерщвлять, уничтожать кого-л. отравой’; ‘во время охоты с собаками преследовать зверя для поимки или с целью умерщвления’; ‘производить потраву – уничтожать посевы, топтать луга, поля’; перен. ‘изводить, мучить кого-л. преследованием’. Возвр. ф. трави́ться – ‘принимать отраву, яд с целью самоубийства’. Сущ. тра́вля, с приставками отра́ва, потра́ва. (…) чеш. tráviti – ‘переваривать (пищу в желудке)’, ‘проводить (время)’, ‘травить (ядом)’ (…) potrava – ‘пища’, ‘корм’, ‘фураж’; словац. trávit’ – ‘тратить’ и ‘отравлять’ [и (о желудке) ‘переваривать’], ср. trovy, мн. – ‘издержки’, trovný, -á, -é – ‘расточительный’; польск. trawić, 1 ед. trawię – ‘переваривать (пищу)’, ‘глодать’, ‘травить’ (напр. металл), а также ‘тратить’, ‘проматывать’, truć (się), 1 ед. truję (się) – ‘отравлять(ся)’; trutka – ‘отрава’. В некоторых совр. слав. яз. отс.[утствует]. В письменных памятниках древнерусского языка до XVII в. травити отс. Срезневский (III, 984) дает только травити металл – ‘вытравливать’, ‘наводить кислотою узор на металл’ со ссылкой на рукопись 1589 г. Но ср. (XIII в.) трути, 1 ед. трову – ‘тратить’, (XV в.) трыти, 1 ед. трыю (…) Ст.-сл. троути, 1 ед. тровѫ, трыти, 1 ед. трыѭ, травити, 1 ед. травлѭ. ▫ О.-с. *truti, 1 ед. trovǫ; абляут *tryti, 1 ед. tryjǫ; каузатив *traviti, 1 ед. travjǫ. И.-е. база *treu- (: *trou- : *trū-); корень *ter- (о.-с. основа *trovǫ < *troṷōn, *travjǫ < *trōṷjōn) – ‘тереть’, ‘сверлить’ (…) Ср. лит. tráunyti – ‘тереть’, абляут trunėti : trūnýti – ‘гнить’, ‘истлевать’, ‘трухляветь’ (Черных, 1999, II, 255).
Не приводя дальнейшие этимологии, что заняло бы, с учетом следующих из них объяснений, немалое место, и отметив попутно, что и при терять П.Я. Черных замечает: «Корень, вероятно, тот же, что в рус. тереть (см.), тратить (см.) травить (см.). Совр. знач. могло развиться из знач. ‘приводить в упадок’, ‘губить’, ‘утрачивать’» (Черных, 1999, II, 240), – не приводя всего этого, обратим внимание на то, что представляется важным в контексте рассматриваемого.
Для начала сошлемся на представляющееся обоснованным замечание О.Н. Трубачева к словарной статье ТРАВА́ у М. Фасмера, даваемое им в квадратных скобках [Слав. traviti, давшее непосредственно trava, представляет собой кауз. от truti; см.: Славский, JP, 38, 1958, 228. – Т.] (Фасмер, 1987, IV, 92). Из чего получалось бы, что трава образовано от травить и при этом тереть (*trava относится к *trovǫ, *truti, как сла́ва – к *slovǫ, *sluti) (Фасмер, 1987, IV, 92), а не, как можно подумать без отнесения к этимологии, наоборот. Травить, в свою очередь, ‘переваривать’, ‘потреблять’, ‘тратить’, что можно отметить в целом ряде слав. языков, и с этим, возможно что далее, ‘истреблять (потравой)’, ‘умерщвлять (отравой)’, ‘преследовать (зверя)’ и все последующее.
В основе или не в основе травы, тем самым, не это важно, важна, не только исходная, связь лежит себя затем объявляющее представление о действии, предполагающем трение с потреблением, перевариванием, истреблением, тратой, утратой, уничтожением, умерщвлением, преследованием и т.п. Видимо, не случайно П.Я. Черных, на первый взгляд неожиданно, определяет траву как растение ‘с однолетним зеленым стеблем, настолько тонким, что его можно растереть между пальцами’. Почему растереть? И в каком это случае делается? Хотя в то же время, с точки зрения представления о той же траве, не так уж важно, что стебель у нее однолетний, не говоря про то, что летом и к осени не всегда зеленый, да и не тонкий во многих случаях, так, что в пальцах и не растереть. Определение у автора словаря появилось в тон и смысл этимологии, по другим словарям чего-то подобного не находим. Однако не только в тон и в этимологический смысл, из чего тогда возникает, опять-таки не случайный вопрос, что же такое тогда трава?
Отойдем от словарных, в целом понятных и объяснимых определений[12] совершенно в другую сторону. Для начала приведем такие традиционные выражения: Быль – трава, небыль – вода. Быль что трава [ноги сплетает], небыль, что вода [сбегает]. Трава, с одной стороны, получается, быль, то, что не просто было, но что действительно было, однако было и быльем (травой) поросло, т.е. ушло навсегда и забылось, заплелось, замелось. С другой стороны, трава – то, что держит и не пускает, ноги сплетает, не отпускает поэтому от себя. Трава незабвения-памяти, а также забвения[13] и потерянной, утраченной памяти в то же самое время, забывания и забытья (не имея в виду наркотическое, отраженное в современной жаргонной речи, ее значение[14], однако, вместе с тем, и не без него).
И далее, к этому и не к этому: вянуть / сповянуть как трава ‘о человеке и жизни, его жизни и жизни в нем’, вянуть / повянуть (призавянуть, призавять) как [кошeная] трава, голова у кого вянет как трава, завять (завянуть) как трава, погаснуть как трава, Человек яко трава, дѣянье его яко цвет (цвьт) селный ‘полевой’, тако цвѣтϵт (Мокиенко, Никитина, 2000, 687). Ряд в общем и целом понятный – минование, прохождение, постепенный отход и уход, из этого мира и жизни, предполагающий неодномоментное увядание, падение и утрату сил.
Продолжая в траве обнаруживающий себя мотив увядания и отхода, отмечаем такое, как Всякая могила травой порастает, что можно видеть как не одно лишь прохождение и уход, но как то, что по смерти, с одной стороны, остается, что о смерти и умирании, с другой стороны, способно напоминать, а еще и как то, что затягивает собой, закрывает, представляя его покров, иное какое-то, скрытое от людей и их глаза существование, ибо смерть есть уход в иной мир на вечное жительство, конец, завершение здесь с открывающимся бесконечным началом там.
Неизменная непреходящесть экзистенционального цикла в его повторении и продолжении, с возвращением к предыдущему и исходному, объявляет себя для травы также в том, что выражается в форме Где росла трава, там и будет, с интересным в себе развитием в том, что Слышно, как трава растет, в котором, если не понимать исключительно в отношении тишины, тишину при этом не исключая, можно заметить движение, ход чего-то такого в траве, что одной травой по своему существу не является, входя в нее, составляя ее, представляясь в ней непременной частью. К этому еще более полно подходит польское [wiedzieć] co w trawie piszczy (при наличии эквивалентного słyszeć, jak trawa rośnie), в чем опять же, если не воспринимать это исключительно в материально-физическом смысле, можно усматривать что-то такое в траве, что и составляет и вместе с тем не составляет существо ее самоe. Что-то, точнее кто-то, живет, обитает, может появляться в траве, невидимый и для травы неизменный, какие-то существа, определяемые как природные, полевые, но и не исключительно полевые, духи[15], себя объявляя в производимом тонком звучании, которое обычному уху воспринять не дано, необходимо иметь для этого сверхъестественные способности. И вместе с тем это нечто ничто не мешает, исходя из принятого в качестве отправного понятия «несознания», не дифференцирующего и не раскладывающего на компоненты состава видимое и невидимое, воспринимаемое и невоспринимаемое, слышимое и неслышимое, но нутром и чутьем в себе ощущаемое, тем нутром и чутьем, которое происходит от бытия человеком, однако не просто, а определенного, внутреннего, языкового в себе воспитания и окружения, – ничто не мешает, в не различающем ощущении, отождествить это нечто с травой, видя в ней выражение не определяемого, но при этом в нее входящего положения.
Говоря об иномирии, ином свете и существовании для травы, стоит вспомнить также русское сказочное Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной как лист перед травой! Трудно сказать, почему именно лист перед травой, как понимать этот лист, однако не это важно. Важно другое. То, что Сивка-бурка, вещий каурка не просто сказочный персонаж, а точнее такой сказочный персонаж, который является представителем и существом с того света. Отсюда ‘сивость’ и ‘вещесть’ его, но не просто ‘сивость’ и ‘вещесть’, а в неслучайном соединении с ‘буростью’ и ‘кауростью’. Не вдаваясь в детали и обстоятельства, что требует обстоятельности и дополнительных уточнений, а не в этом задача, обратим внимание лишь на передаваемую в цвете двойственность, если не тройственность сивого, бурого и каурого, оборачиваемого его естества. И тогда появление его, если и не с того света, что может быть очевидно, а не всякое очевидное истинно, если и не с того света, то, по крайней мере, не с этого, и на это внимание следует обратить, и прямо, и косвенно связывается с травой. Ибо перед травой он призывается стать как лист. Трава, тем самым, с одной стороны, отмечает его появление и приход, а с другой – позволяет, дает возможность ему в появлении перед ней воспринять и увидеть.
Оставим, однако, дальнейшее рассмотрение затронутых положений и связей, ибо не в этом дело и не об этом речь. Обратимся в своих рассуждениях к еще одному развороту, по времени и не только по времени более близкому современности. Период застойной, скажем так, советской грусти-тоски второй половины ХХ века, приходящийся главным образом на 70-е годы, оказался отмеченным повторяющимся в известных песнях этого времени мотивом травы. Не будем входить в объяснение данного положения, лишь отметив для предполагаемого вывода некоторые аспекты. Назовем в этом ряду песни Я сегодня до зари встану (слова Р. Рождественского, первое исполнение А. Кавалеровым 1971 г.), Травы, травы… (слова И. Юшина, исполнение Г. Белова 1974 г.), На дальней станции сойду (слова М. Танича, исполнение того же певца 1976 г.), Трава у дома (слова А. Поперечного, исполнение В. Мигули 1982 г.), а также фильм 1982 г. Полынь – трава горькая и песня Полынь-трава (слова Л. Эрденко, год установить не удалось), Подорожник-трава (слова М. Танича, исполнение А. Мон 1986 г.) и не случайно созвучная своему и не только своему времени Песня про зайцев и в ней волшебная трын-трава, которую боязливые зайцы в полночь косят (слова Л. Дербенeва, первое исполнение Ю. Никулина 1969 г. в фильме Бриллиантовая рука).
Что возникает с этими всеми травами применительно к временны́м и с ними ментальным, чтобы не обобщать до национально-культурного уровня, обстоятельствам? Какая тянущаяся, исходящая от чувства и ощущения, но не метафорика, а параллель (чтобы не говорить, что тоска)? К тому, что трудно, если возможно, прямо и непосредственно выразить, хотя в стихотворном контексте определенные указания к этому, несомненно, имеются. Не мудрствуя лукаво и не ища подноготного смысла, обратимся к примерам. Начнем не в порядке, а в том, что относится к чувству, которое будет интересовать нас в первую очередь. Не к чувству как таковому, что было бы неудивительно, а к тому, которое к чему-то в последующем с учетом всего предыдущего подведет. Выражение этого интересующего нас положения вещей находим, прежде всего, в словах На дальней станции сойду, – Трава – по пояс! И хорошо, с былым наедине, Бродить в полях, Ничем, ничем не беспокоясь, По васильковой, синей тишине.
По-настоящему, для решения стоящей задачи, следовало бы привести слова этой песни все целиком, поскольку в ней для травы можно выявить важные эмотивные повороты. За неимением места, однако, не будем подробно анализировать, несомненно того заслуживающий, полный текст, ограничившись краткими назывными характеристиками. Из приведенных строчек важно все – то, что На дальней станции, и что Трава – по пояс!, и былое, с которым наедине, в полях, не беспокоясь, в синей тишине. Отталкиваясь от травы, можно почувствовать не заросшее запустение, а удаленность, уход во что-то чистое и лазоревое, в котором нетронутость и с ней спокойствие и тишина. Далее тема травы отходит на второй план, переключаясь к тому, что наступает за ней (запах мeда, живая вода, васильки, тополя) и что она раскрывает вошедшему, но не содержит и не таит в себе, а именно открывает. И в заключение, снова трава, повторяясь, – На дальней станции сойду, – Трава по пояс! Зайду в траву, как в море – босиком! И без меня обратный Скорый, скорый поезд Растает где-то в шуме городском. Здесь важно то, что Зайду в траву, как в море, и босиком, при неслучайно обратном и скором поезде, который растает.
Внутренне, в ощущении изображено и представлено ранее упоминавшееся иномирие, что-то другое, противоположно-обратное тому, откуда поезд и после чего он куда. Некая параллельно себя проявляющая и существующая действительность, реальность, может, воображаемого, может, желаемого, может, ушедшего и растаявшего, как тот поезд, но опять же в обратную сторону. Ибо это хотелось бы, но этого, может, и нет. Как несбыточно отошедшего, заслоненного, недостижимого в своей достижимости, войти в которое, обернувшись, уйдя от реально-действительного здесь и сейчас себя, в этом месте и времени можно, только если сойти на какой-то там дальней станции, которая нереально реальна, и войти, погрузившись по пояс в его открывающую и затем замыкающую собою траву.
Еще один мотив травы примерно того же времени косвенным образом связан с памятью, но не просто, а горькой памятью, обусловленной ранней смертью и гибелью не пришедших с войны. А степная трава пахнет горечью, как поется в припеве, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Перед этим, в самом начале, не случайно появляется широкое поле, по которому надо пройти (ср. в пословице Жизнь прожить не поле перейти), и эта самая память, согласно которой Всe, что было не со мной, помню, и затем, уже после степной травы и перед нею, Всe зовeт меня его голос, Всe звучит во мне его песня.
Природные обстоятельства вокруг травы взаимосвязаны и обусловлены, у каждого из них, при совместности совокупного действия, вместе с тем своя внутренне мотивируемая роль. Упоминавшееся ранее широкое поле, дождинки (по щекам впалым), молодые ветра, которые зелены (не от травы ли, также и вместе с тем?), гроза, весна, которая будет долгой, пашня, – все это, создавая по замыслу образ переживаемой жизни, возможной в таком своем проявлении вследствие смерти рано ушедших и не вернувшихся, отзывается голосом, а точнее их голосами, где-то там затерявшимися в степной траве широкого поля. Прежде времени смерть, не своя, не по времени смерть предполагает, согласно народной традиции, неуспокоенность для души, с возможным блужданием ее в этом мире[16]. Этим внутренне объясняется и широкое поле, там, где погибли, и там, где поэтому могут погибшие себя объявлять, и степная трава, которая вследствие этого пахнет горечью, предполагая зовущие и поющие в ней голоса. И это была бы тогда трава, содержащая в себе и в себе объявляющая, но не душами, а голосами[17], тех, кого уже нет, кто отошел и находится на рубеже в своей принадлежности ни тому, ни этому миру. Тем самым так же, как и в предыдущем рассмотренном тексте, через траву и в траве возникает нечто другое, обратное, то, что не здесь, будучи вместе с тем здесь, поскольку когда-то отсюда.
С мотивом травы с ее голосами и пением согласуется припев еще одной упомянутой ранее песни: Травы, травы, травы не успели От росы серебряной согнуться, И такие нежные напевы Почему-то прямо в сердце льются. С неожиданным тут же, но только на первый взгляд, развитием Лунною тропою на свиданье еду, Тихо сам с собою, тихо сам с собою Я веду беседу. Возникает тропа, и не просто тропа, а лунная[18], и ничем вроде бы не мотивированная беседа с самим собою, странная на первый взгляд, но и не странная, если увидеть в этом не с самим собою беседу, а то, что исходит и льется от поющих и говорящих при лунном свете трав у лунной к тому же тропы, в продвижении по ней к чему-то иному и неизвестному, то, что где-то, что существует и что может или не может случиться и произойти.
Космизм и скрытая в ощущении потусторонность (при упомянутой лунности у тропы в предыдущем абзаце) появляются для травы в еще одной очень известной песне Трава у дома, так прямо и обозначенной: И снится нам не рокот космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам трава, трава у дома, Зелeная, зелeная трава! В словах четырехкратно повторяемого припева, с таким перед этим предшествием: И, как в часы затмения, и, как в часы затмения, Ждeм света и земные видим сны. Часы затмения, свет и сны, земные, которые видим, не будучи на Земле. Тем самым, снова обратность и взгляд, точнее ви́дение того, что земное, однако не наяву. Трава у дома, зелeная, в контраст к ледяной синеве, становится знаком и местом того, от чего, с Земли улетев, ушли и что может являть себя только в снах, куда тянет вернуться и что представляет собой рубеж допускающего в себя обращенного возвращения, на сей раз из космоса к дому. Трава, но с обратной как бы своей стороны, не земного и не вполне реального (поскольку в снах) восприятия.
Опустим другие, за неимением места, примеры немалочисленных текстов общеизвестных и популярных песен отмеченного временно́го периода. Прежде чем возвратиться к заявленному в начале соотношению дров, двора и травы в рассматриваемой скороговорке, с уточнением для травы в ее ретроспекции к общеславянскому происхождению, представляется небезразличным напомнить еще один очень известный сказочный текст:
Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит:
– Здравствуй, Тетеревочек, мой дружочек! Как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать.
– Спасибо на добром слове, – сказал Тетерев.
Лисица притворилась, что не расслышала, и говорит:
– Что говоришь? Не слышу. Ты бы Тетеревочек, мой дружочек, сошел на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу.
Тетерев сказал:
– Боюсь я сходить на траву. Нам птицам опасно ходить по земле (Лиса и тетерев[19]).
Отметим лишь то, что будет связано с темой. Тетерев сидит на дереве, место обычное для него, но при этом не исключительное, на землю он также может сойти. Лиса услышала его голосочек и, завязав беседу, предлагает, чтобы сошел тот на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу. Травушка становится местом, где можно поговорить, погуляв, поскольку голосочек на ней будет не только слышен, но и понятен. Тетерев, зная, что его может ждать от лисы, сообщает Боюсь я сходить на траву, объясняя это тем, что птицам опасно ходить по земле.
От лисы на земле, на траве ему смерть, поскольку лиса и есть, не одним только птицам, существо, несущее смерть[20]. Вновь возникает мотив обращения в противоположное и обратное, от живого к мертвому, равно как и от мертвого также к живому, из одного мира в другой.
Возвращаясь, однако, к скороговорке с травой на дворе и дровами, стоит, не углубляясь в себя отражающие в ней другие мотивы, обратить внимание только на то, что было уже затронуто. Оттолкнемся в подобной интерпретации от двора, ибо с него начинается. Воспринимая двор, через его отношение к дому[21], как место, пространственный локус, в котором и на котором можно видеть и ожидать того и то, чему не следует быть и что не должно проявлять себя в доме, будучи внешним для дома, его окружением, выходом из внутреннего и защитного своего, на открыто-закрытое и ограничивающее пространство, – двор с травой на нем и дровами на ней будет нечто такое, в подобном ключе, собой представлять. Напомним устойчивые сочетания в разбираемой связи: холодно как на дворе (о температуре не на дворе, а в доме), выйти на двор / во двор, в том числе по нужде, для того, что не следует, не положено делать в доме, вынести что-то на двор, за пределы дома, с глаз долой или чтобы избавиться, а также на дворе дождь, мороз, ветер, гроза и пр., т.е. стихия и атмосфера, себя обнаруживающие только вне дома.
На дворе трава, продолжая ту же линию в разбираемом тексте, хотя не вполне в том же самом ключе, как то, чему не место и не положено быть, находиться в доме[22], трава эта не домашнее, а дворовое и потому отчасти все же и в чем-то свое, но при этом внешнее естество. Трава (в одном из возможных аспектов своих, поскольку к дровам) как то, где имеются, могут быть, и что является вместе с тем, с ее голосами и душами, духами (не с этим ли связаны дух травы, духмяный и ее пряный дух?), означением и воплощением того, что потустороннее, не от мира сего и как таковое связываемое также со смертью и умиранием. Ср. упасть на траву, будучи раненым или убитым. И то же упасть на траву от усталости, при утрате сил, для отдыха, передышки. И упасть на траву или в траву, от избытка вдруг охвативших чувств, в желании прикоснуться к земле, лечь на нее в этой самой траве.
При дровах на ней такая трава на дворе была бы тогда дополнительным означением того, что имело бы отношение к мертвому. О дровах как о том, что тело, но без движения и сознания, а потому также и без души, душа отлетела или где-то гуляет, о пьяном (У пьяного душа гуляет по пословице), о душевно больном и о спящем[23], и при этом траве, к этому многочисленность и вездесущность этих самых дров по скороговорке в ее более полном виде (см. ее приведенную ранее), таких, что не вмещает двор дров, и поэтому выдворим (при Наверно) дрова с вашего двора обратно на дровяной двор, – из всего этого будет следовать то, что это не просто дрова. И при этом такие, которые связаны с находящейся на все том же дворе травой. Дрова эти внутренне можно почувствовать, но не сознанием осознать, отсюда идея травы «несознания», как отделенные от своей души, однако вместе с этим при ней, мертвые, возможно не только по внешнему виду, тела. Из этого следует их положение на траве, и из этого также, опять же внутренне, следует наверность (в скороговорке Наверно) их выдворения со двора – с вашего двора, что важно, на дровяной, т.е. их собственный, двор, там, где дровам этим, мертвым телам, положено находиться и быть.
Внимания требуют, говоря о траве, ее не то чтобы не совсем обычные, но любопытные этимологические, а потому и внутренне обусловливаемые и мотивируемые некогда связи, отчасти забытые, отчасти не до конца ощущаемые. С тем чтобы не повторять того, что ранее было представлено, попробуем определиться лишь в направлениях общего смыслового круга, в котором также трава должна занимать свое место. Трава, как было показано и это видится как вполне логичное объяснение, приведенное О.Н. Трубачевым, следует от славянского каузатива *traviti для *truti. Тем самым, исходно и ей будет свойственна каузальность. При первоначальной основе *ter- < *trū- < *trou- < и.-е. *trěu- (идя в обратном порядке), с опять же исходным, значением ‘тереть’ и развитием далее в формах тереть, травить, тратить, терять, а также, по М Фасмеру (IV, 45) и П.Я. Черных, теребить, о.-с. *terbiti ‘очищать’, ‘чистить’, позже ‘шелушить’, ‘корчевать’ > ‘теребить’, и сюда тогда истребить, и с этим также терзать, о.-с. *tьrzati с тем же корнем *ter- для ‘тереть’ (Черных, II, 237, 238), включая другие славянские производные, которые, за неимением места не будем перечислять, поскольку важно не это.
Оттолкнемся от смыслового круга, который, однако, с учетом всех появляющихся при исходном *ter- производных, может представиться неисчерпаемым. По этой причине выберем путь не самих значений, а их направлений, что в известном смысле будет все же условным. Однако опять же, не в этом не то, чтобы искомая, но характеризуемая суть, а в том, чтобы увидеть, почувствовав, какую-то производящую базу для «несознания», чего следствием объявляют себя проективные образы в отношении травы, примеры которых выборочно и далеко не полно были представлены в материале.
В установлении указанных направлений пойдем от простого, начав с перечисления того, что нашло свое отражение в этимологических пояснениях у П.Я. Черных и М. Фасмера, не с тем, чтобы что-либо основательно утверждать, а с тем, чтобы только наметить возможный путь и движение. При объяснении славянских следствий для первоначального *ter-, не соблюдая порядков их перехода, что было бы трудно, если возможно, установить, появились такие определения (приходится их повторить): тереть, травить (как каузатив для *truti), тратить, терять, терзать, теребить, добавив к этому истребить.
Не углубляясь в дальнейшие расхождения для всех прочих, помимо травить, представим себе их условно как получаемые направления. Возникает поле, в котором имеются действия физического установления – тереть, теребить, терзать (в таком порядке), связываемые: a) с таким воздействием, для тереть, на форму объекта, которое приводит к ее нарушению и утрате, обращая в некое крошиво, а возможно и пыль; б) с воздействием, предполагающим дерганье в обе стороны, тормошение, без нарушения формы (теребить); в) с воздействием (имея в виду физическое), связанным с раздиранием, разрыванием, вырыванием частей (для терзать), что приводит к возможному нарушению формы, но не утрате.
Вторую группу, точнее ряд, составят тратить, терять, близкие по своему значению, с тем отличием для них характерным, которое предполагает издержки, утрату, потерю, следующие из поведения субъекта, для тратить, и потери, утрату, поведением субъекта прямо не вызванные (П.Я. Черных, напомним, дает как исходные значения ‘приводить в упадок’, ‘губить’, ‘утрачивать’ для терять).
И, наконец, интересующее нас травить, которое связывается в главных славянских своих направлениях c переваривать, потреблять, отравлять и затем, для русскоязычного, в первую очередь, ареала с потравой посевов, лугов, полей (травы и злаков), ведущей к порче и/или уничтожению, и травлей (во время охоты собаками зверя с целью поимки и/или умерщвления).
Итак, получаются три, а точнее четыре, а если еще точнее, то пять, внутренне связываемых рядов, имеющих в виду: 1) силовое воздействие на объект, предполагающее нарушение либо уничтожение его формы, как такая цель (для тереть) либо следствие (терзать, теребить); 2) утрату, потери, иными словами нарушение первоначальной цельности обладаемым, обусловленные субъектно либо же бессубъектно (тратить, терять); 3) нарушение, связываемое с поглощением, потреблением чего-либо и его присвоением, включением внутрь, в себя, для переваривать; 4) порчу, преследование и уничтожение, либо с целью присваивания с потреблением в дальнейшем, либо без таковой, для потравы и травли, и 5) истребление, умерщвление, для отравлять, с целью избавления, исключения, выключения, удаления от себя. Три последних позиции (от 3 до 5) для травить.
Общим было бы нарушение цельного либо не нарушение, но посягательство, как направленное, так и нет, из которого далее следуют уничтожение, порча, потери, уничтожение с целью потребления и присвоения, равно как и без таковой, а также с целью умерщвления и изведения (‘травить’ = ‘отравлять’). Все это можно было бы выразить в моделирующей схеме, которую также можно было бы воспринимать как основу базируемого на ней «несознания», однако уйдем от этого, чтобы представить определяемое в свободном полете, ибо об этом, применительно к объявляющему себя в ощущениях «несознанию», речь.
И под конец, но не в завершение, обращаясь к предпринятому нами подходу и взгляду на материал, обнаруживающие себя в приведенных примерах, включая песенные, ощущения, чувства, чутье, находящие свое выражение в определенных позициях, которые семантически можно охарактеризовывать и определять – не случайны. Как в силу поддерживающей их, в том числе и культурно-ментальной традиции и с нею связанных переживаний, так и в силу внутренне, в себе ощущаемых (приходится повторить) мотиваций, обращаемых в немалой степени к русско-славянской этимологической ретроспективе, к корням той семантики, о которой речь. Установить и наглядно представить подобного рода связи, что теоретически, но только отчасти, возможно, не входило в задачу. Прежде всего потому, что обращаясь к заявленному исходно в его ощущениях «несознанию», вряд ли возможно в какие-то однозначные и очевидные связи все это вложить. Задачей было их только наметить как направления, обрисовав в отдельных штрихах и пунктирах стоящую за ними картину.
Абрамовъ, И. (1907). Какъ перестали убивать стариковъ в Малороссiи, Живая старина, IV, 41–42.
Агапкина, Т.А. (2004). Лес. В: Н.И. Толстой (ред.), Славянские древности. Этнолингвистический словарь. T. 3 (97–100). Москва: Международные отношения.
Агапкина, Т.А. (2012). Троица. В: Н.И. Толстой (ред.), Славянские древности. Этнолингвистический словарь. T. 5 (320–323). Москва: Международные отношения.
Амирова, Т.А., Ольховиков, Б.А., Рождественский Ю.В. (2005). История языкознания. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под ред. С.Ф. Гончаренко. 2-е изд. Москва: Издательский центр «Академия».
Андрюнина, М.А. (2015). Символика пространства в славянской похоронно-поминальной обрядности: этнолингвистический аспект (украинская, белорусская, западнорусская и польская традиции). Автореферат дисс. … канд. филол. наук. Москва.
Ансимова, О.К., Голубкова, О.В. (2015). Духи леса в русских народных верованиях: новое решение лексикографического описания, Гуманитарные науки в Сибири, Т. 22, 2, 94–99.
Афанасьев, А.Н. (1868). Древо жизни и лесные духи. В: А.Н. Афанасьев, . В 3-х томах. T. 2 (325–349). Москва: Издание К. Солдатенкова.
Афанасьев, А.Н. (1957). Народные русские сказки. В трех томах. Москва: Государственное издательство художественной литературы.
Велецкая, Н.Н. (1978). Языческая символика славянских архаических ритуалов. Москва: Наука, https://royallib.com/book/veletskaya_natalya/yazicheskaya_simvolika_slavyanskih_arhaicheskih_ritualov.html (доступ: 21.05.2021).
Виноградова, Л.Н. (1999). Материальные и бестелесные формы существования души. В: Славянские этюды (141–160). Москва: Индрик.
Виноградова, Л.Н. (2008). Смерть хорошая и плохая в системе ценностей традиционной культуры. В: Категории жизни и смерти в славянской культуре. Сборник статей (48–56). Москва: Институт славяноведения РАН.
Власова, М.Н. (2008). Лесная девка. В: М.Н. Власова, Энциклопедия русских суеверий (102). Санкт-Петербург: Азбука-классика.
Гура, А.В. (2004). Лисица. В: Н.И. Толстой (ред.), Славянские древности. Этнолингвистический словарь. T. 3 (114–116). Москва: Международные отношения.
Гуревич, А.Я. (1990). Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. Москва: Искусство.
Даль, В.И. (2000). Толковый словарь живого великорусского языка. В четырех томах. Воспроизведено с изд. 1955 г., набранное и напечатанное со второго издания (1880–1882 гг.). Москва: Русский язык.
Евгеньева А.П. (1981–1984). Словарь русского языка. В четырех томах. Изд. второе, исправленное и дополненное. Москва: Русский язык.
Елистратов, В.С. (2000). Словарь русского арго. Материалы 1980–1990 гг. Москва: Русские словари.
Журавлeв, А.Ф. (2005). Древо жизни и лесные духи. В: С.М. Толстая (ред.), Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (507–511). Москва: Индрик.
Зеленин, Д.К. (1995, 1916). Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. Москва: Индрик.
Зимин, В.И. (2012). Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА.
Королeва, С.Ю., Четина, Е.М. (2013). Ещe раз о «заложных» умерших: народные и церковные поминальные традиции. В: В.А. Поздеев, М.С. Судовиков (ред.), Зеленинские чтения. Материалы Всерос. науч. конф. (Киров, 12 ноября 2013 г.) (67–73). Киров: Издательский Дом ГЕРЦЕНКА.
Криничная, Н.А. (1993). Лесные наваждения: Мифические рассказы и поверья о духе-«хозяине» леса. Петрозаводск: [б.и.].
Криничная, Н.А. (2013). Двойник: к семантике мифологического образа, Русская речь, 5, 113–118.
Кузнецов С.А. (ред.). (1998, 2000). Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: Норинт.
Лагутина, Т.В. (2014). Народные частушки, скороговорки, прибаутки, пословицы и загадки. Москва: РИПОЛ классик.
Левкиевская, Е.Е. (2004). Огни блуждающие. В: Н.И. Толстой (ред.), Славянские древности. Этнолингвистический словарь. T. 3 (511–513). Москва: Международные отношения.
Левкиевская, Е.Е. (2009). «Заложные» покойники и «неправильная» смерть. В: Е.Е. Левкиевская, Мифы русского народа (211–221). Москва: Астрель.
Литвинова, П.Я. (1885). Как сажали в старину людей старыхъ на лубокъ, Кiевская старина, 6, 354–356.
Лурье, С.Я. (1932). Дом в лесу, Язык и литература, VIII, 159–193.
Максимов, С.В. (1903). Нечистая, невѣдомая и крестная сила. Санкт-Петербург: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг.
Мокиенко, В.М., Никитина, Т.Г. (2000). Большой словарь русского жаргона. Санкт-Петербург: Норинт.
Мокиенко, В.М., Никитина, Т.Г. (2008). Большой словарь русских народных сравнений. Москва: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп».
Никитина, Т.Г. (2003). Молодежный сленг: Толковый словарь. Москва: Издательство Астрель.
Никифоровский, Н.Я. (1907). Лешие (лешуки, лесовики, пущевики). В: Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе (68–73). Вильна: Н. Мац и К.
Панченко, А.А. (2008). «Заложные родители». Смерть, память и сакральное пространство. В: Сакральная география в славянской и еврейской культурной традиции (232–259). Москва: Институт славяноведения РАН.
Пиир, А.М. (2002). Окно во двор (к описанию дворового пространства). В: Антропология. Фольклористика. Лингвистика. Сборник статей. Вып. 2 (194–230). Санкт-Петербург: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге.
Пиир, А.М. (2006). Для чего нужен двор? (Возрастные сообщества ленинградских дворов), Антропологический форум, 5, 345–378.
Пропп, В.Я. (2000). Исторические корни волшебной сказки. Москва: Лабиринт.
Седакова, О.А. (1979). Поминальные дни и статья Д.К. Зеленина «Древнерусский языческий культ заложных покойников». В: Проблемы славянской этнографии (123–130). Ленинград: Наука.
Толстая, С.М. (2000). Славянские мифологические представления о душе. В: Славянский и балканский фольклор. Народная демонология (52–95). Москва: Индрик.
Усачева, В.В. (1999). Дрова. В: Н.И. Толстой (ред.), Славянские древности. Этнолингвистический словарь. T. 2 (135–138). Москва: Международные отношения.
Фасмер, М. (1987). Этимологический словарь русского языка. В четырех томах. Москва: Прогресс.
Филипповић, М.С. (1967). Различета етнолошка граћа. Београд.
Химик, В.В. (2004). Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. Санкт-Петербург: Норинт.
Черепанова, О.А. (1996). Очерк традиционных народных верований Русского Севера (комментарии к текстам). Народная демонология: Леший. В: Мифологические рассказы и легенды Русского Севера (139–144), О.А. Черепанова (сост.). Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ.
Черных, П.Я. (1999). Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. 3-е изд., стереотип. Москва: Русский язык.
Штернбергъ, Л. (1902). Убiйство дѣтей и стариковъ у первобытныхъ народовъ. B: Энциклопедическiй словарь. В 86 т. T. XXXIV (402–404). Санкт-Петербургъ: Типографiя Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. Издатели: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.
Штырков, С.А. (2001). «Святые без житий» и забудущие родители. Церковная канонизация и церковная традиция. В: Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. Сборник статей (130–155). Москва: Пробел-2000.
Gieysztor, A. (1982). Duchy leśne i zwierzęce. W: A. Gieysztor. Mitologia Słowian (263). Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.
Pełka, L.J. (1987). Demonologia leśna. W: L.J. Pełka. Polska demonologia ludowa (105–111). Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
Abramov”, I. (1907). Kak” perestali ubivat’ starikov” v Malorossii, Zhivaya starina, IV, 41–42.
Afanas’ev, A.N. (1868). Drevo zhizni i lesnye dukhi. V: A.N. Afanas’ev, Poeticheskie vozzreniya slavyan na prirodu. V 3-kh tomakh. T. 2 (325–349). Moscow: Izdanie K. Soldatenkova.
Afanas’ev, A.N. (1957). Narodnye russkie skazki. V trekh tomakh. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoi literatury.
Agapkina, T.A. (2004). Les. V: N.I. Tolstoi (red.), Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’. T. 3 (97–100). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya.
Agapkina, T.A. (2012). Troitsa. V: N.I. Tolstoi (red.), Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’. T. 5 (320–323). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya.
Amirova, T.A., Ol’khovikov, B.A., Rozhdestvenskii Yu.V. (2005). Istoriya yazykoznaniya. Uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenii. Pod red. S.F. Goncharenko. 2-e izd. Moscow: Izdatel’skii tsentr «Akademiya».
Andryunina, M.A. (2015). Simvolika prostranstva v slavyanskoi pokhoronno-pominal’noi obryadnosti: etnolingvisticheskii aspekt (ukrainskaya, belorusskaya, zapadnorusskaya i pol’skaya traditsii). Avtoreferat diss. … kand. filol. nauk. Moscow.
Ansimova, O.K., Golubkova, O.V. (2015). Dukhi lesa v russkikh narodnykh verovaniyakh: novoe reshenie leksikograficheskogo opisaniya, Gumanitarnye nauki v Sibiri, T. 22, 2, 94–99.
Cherepanova, O.A. (1996). Ocherk traditsionnykh narodnykh verovanii Russkogo Severa (kommentarii k tekstam). Narodnaya demonologiya: Leshii. V: Mifologicheskie rasskazy i legendy Russkogo Severa (139–144), O.A. Cherepanova (sost.). St. Petersburg: Izdatel’stvo SPbGU.
Chernykh, P.Ya. (1999). Istoriko-etimologicheskii slovar’ sovremennogo russkogo yazyka. V 2 t. 3-e izd., stereotip. Moscow: Russkii yazyk.
Dal’, V.I. (2000). Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka. V chetyrekh tomakh. Vosproizvedeno s izd. 1955 g., nabrannoe i napechatannoe so vtorogo izdaniya (1880–1882 gg.). Moscow: Russkii yazyk.
Elistratov, V.S. (2000). Slovar’ russkogo argo. Materialy 1980–1990 gg. Moscow: Russkie slovari.
Evgen’eva A.P. (1981–1984). Slovar’ russkogo yazyka. V chetyrekh tomakh. Izd. vtoroe, ispravlennoe i dopolnennoe. Moscow: Russkii yazyk.
Fasmer, M. (1987). Etimologicheskii slovar’ russkogo yazyka. V chetyrekh tomakh. Moscow: Progress.
Filippoviћ, M.S. (1967). Razlicheta etnoloshka graћa. Beograd.
Gura, A.V. (2004). Lisitsa. V: N.I. Tolstoi (red.), Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’. T. 3 (114–116). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya.
Gurevich, A.Ya. (1990). Srednevekovyi mir: kul’tura bezmolvstvuyushchego bol’shinstva. Moscow: Iskusstvo.
Khimik, V.V. (2004). Bol’shoi slovar’ russkoi razgovornoi ekspressivnoi rechi. St. Petersburg: Norint.
Koroleva, S.Yu., Chetina, E.M. (2013). Eshche raz o «zalozhnykh» umershikh: narodnye i tserkovnye pominal’nye traditsii. V: V.A. Pozdeev, M.S. Sudovikov (red.), Zeleninskie chteniya. Materialy Vseros. nauch. konf. (Kirov, 12 noyabrya 2013 g.) (67–73). Kirov: Izdatel’skii Dom GERTsENKA.
Krinichnaya, N.A. (1993). Lesnye navazhdeniya: Mificheskie rasskazy i pover’ya o dukhe-«khozyaine» lesa. Petrozavodsk: [b.i.].
Krinichnaya, N.A. (2013). Dvoinik: k semantike mifologicheskogo obraza, Russkaya rech’, 5, 113–118.
Kuznetsov S.A. (red.). (1998, 2000). Bol’shoi tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. St. Petersburg: Norint.
Lagutina, T.V. (2014). Narodnye chastushki, skorogovorki, pribautki, poslovitsy i zagadki. Moscow: RIPOL klassik.
Levkievskaya, E.E. (2004). Ogni bluzhdayushchie. V: N.I. Tolstoi (red.), Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’. T. 3 (511–513). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya.
Levkievskaya, E.E. (2009). «Zalozhnye» pokoiniki i «nepravil’naya» smert’. V: E.E. Levkievskaya, Mify russkogo naroda (211–221). Moscow: Astrel’.
Litvinova, P.Ya. (1885). Kak sazhali v starinu lyudei starykh” na lubok”, Kievskaya starina, 6, 354–356.
Lur’e, S.Ya. (1932). Dom v lesu, Yazyk i literatura, VIII, 159–193.
Maksimov, S.V. (1903). Nechistaya, nevѣdomaya i krestnaya sila. St. Petersburg: Tovarishchestvo R. Golike i A. Vil’borg.
Mokienko, V.M., Nikitina, T.G. (2000). Bol’shoi slovar’ russkogo zhargona. St. Petersburg: Norint.
Mokienko, V.M., Nikitina, T.G. (2008). Bol’shoi slovar’ russkikh narodnykh sravnenii. Moscow: ZAO «OLMA Media Grupp».
Nikiforovskii, N.Ya. (1907). Leshie (leshuki, lesoviki, pushcheviki). V: Nechistiki. Svod prostonarodnykh v Vitebskoi Belorussii skazanii o nechistoi sile (68–73). Vil’na: N. Mats i K.
Nikitina, T.G. (2003). Molodezhnyi sleng: Tolkovyi slovar’. Moscow: Izdatel’stvo Astrel’.
Panchenko, A.A. (2008). «Zalozhnye rodi¬teli». Smert’, pamyat’ i sakral’noe prostranstvo. V: Sakral’naya geografiya v slavyanskoi i evreiskoi kul’turnoi traditsii (232–259). Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN.
Piir, A.M. (2002). Okno vo dvor (k opisaniyu dvorovogo prostranstva). V: Antropologiya. Fol’kloristika. Lingvistika. Sbornik statei. Vyp. 2 (194–230). St. Petersburg: Izd-vo Evropeiskogo un-ta v St. Petersburge.
Piir, A.M. (2006). Dlya chego nuzhen dvor? (Vozrastnye soobshchestva leningradskikh dvorov), Antropologicheskii forum, 5, 345–378.
Propp, V.Ya. (2000). Istoricheskie korni volshebnoi skazki. Moscow: Labirint.
Sedakova, O.A. (1979). Pominal’nye dni i stat’ya D.K. Zelenina «Drevnerusskii yazycheskii kul’t zalozhnykh pokoinikov». V: Problemy slavyanskoi etnografii (123–130). Leningrad: Nauka.
Shternberg”, L. (1902). Ubiistvo dѣtei i starikov” u pervobytnykh” narodov”. V: Entsiklopedicheskii slovar’. V 86 t. T. XXXIV (402–404). St. Petersburg”: Tipografiya Akts. Obshch. Brokgauz”-Efron”. Izdateli: F.A. Brokgauz”, I.A. Efron”.
Shtyrkov, S.A. (2001). «Svyatye bez zhitii» i zabudushchie roditeli. Tserkovnaya kanonizatsiya i tserkovnaya traditsiya. V: Kontsept chuda v slavyanskoi i evreiskoi kul’turnoi traditsii. Sbornik statei (130–155). Moscow: Probel-2000.
Tolstaya, S.M. (2000). Slavyanskie mifologicheskie predstavleniya o dushe. V: Slavyanskii i balkanskii fol’klor. Narodnaya demonologiya (52–95). Moscow: Indrik.
Usacheva, V.V. (1999). Drova. V: N.I. Tolstoi (red.), Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’. T. 2 (135–138). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya.
Veletskaya, N.N. (1978). Yazycheskaya simvolika slavyanskikh arkhaicheskikh ritualov. Moscow: Nauka, https://royallib.com/book/veletskaya_natalya/yazicheskaya_simvolika_slavyanskih_arhaicheskih_ritualov.html (accessed: 21.05.2021).
Vinogradova, L.N. (1999). Material’nye i bestelesnye formy sushchestvovaniya dushi. V: Slavyanskie etyudy (141–160). Moscow: Indrik.
Vinogradova, L.N. (2008). Smert’ khoroshaya i plokhaya v sisteme tsennostei traditsionnoi kul’tury. V: Kategorii zhizni i smerti v slavyanskoi kul’ture. Sbornik statei (48–56). Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN.
Vlasova, M.N. (2008). Lesnaya devka. V: M.N. Vlasova, Entsiklopediya russkikh sueverii (102). St. Petersburg: Azbuka-klassika.
Zelenin, D.K. (1995, 1916). Izbrannye trudy. Ocherki russkoi mifologii: Umershie neestestvennoi smert’yu i rusalki. Moscow: Indrik.
Zhuravlev, A.F. (2005). Drevo zhizni i lesnye dukhi. V: S.M. Tolstaya (red.), Yazyk i mif. Lingvisticheskii kommentarii k trudu A.N. Afanas’eva «Poeticheskie vozzreniya slavyan na prirodu» (507–511). Moscow: Indrik.
Zimin, V.I. (2012). Slovar’-tezaurus russkikh poslovits, pogovorok i metkikh vyrazhenii. Moscow: AST-PRESS KNIGA.